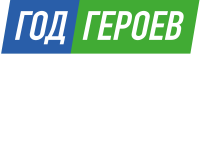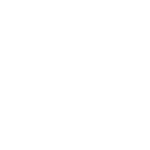«Раньше думай о Родине, а потом о себе»
О спектакле по повести И. Торопова «Вам жить дальше»
У моих друзей есть плот. Он довольно громоздкий, но сборно-разборный. И мы уже десять лет сплавляемся летом по Сысоле от поселка Яснэг до местечка Красная гора в Сыктывкаре. Поход наш многодневный, экипаж в зависимости от погоды и месяца меняется. По пути закидываем удочки, варим уху, знакомимся с местными рыбаками, которых на реке в летнюю пору предостаточно, хотя большим уловом никто из них не хвастается. Как говорится в таких случаях, охота пуще неволи.
Пишут, что космонавты, отправляясь в дальний полет, обязательно берут с собой киноленту «Белое солнце пустыни». Пропуском на наш плот является небольшой пересказ отрывка из книги замечательного коми писателя Ивана Торопова «Ну, залетные». И это не случайно. В не столь давние времена река Сысола была судоходной, по ней курсировали трудяги-катера. Весной, в пору большой воды, река становилась рабочим местом десятки бригад сплавщиков. Работали люди в это время на реке, можно сказать, круглосуточно, особенно тяжело было на молевом сплаве.
Характер весенней реки во многом определяется погодными условиями, бывает, что в южных районах солнце начинает рано пробуждаться, потом целый день нещадно палит. Река, стараясь скинуть с себя зимний ледяной панцирь, быстро набухает, образуя ледяные заторы. Это еще полбеды, но когда заторы образуются во время сплава леса, вот тут наступает настоящая беда. Может случиться так, что не прояви рабочие вовремя расторопность и смекалку, громоздкие бревна заполонят все береговые луга и пашни, потом их, когда большая вода уйдет, будет трудно оттуда достать.
Сегодня Сысола сильно обмелела. Не то что катера, даже наш плот на многих поворотах скребет дно реки. И мы, так называемые «туристы», вынуждены раздеваться и дружно вызволять свое судно из песчаной западни.
В случаях, когда у нас возникают трудности, нам ближе и понятнее становится дружная работа юношей и девушек на сплавных работах, отраженная писателем Иваном Тороповым.
Теме «большая вода и люди» посвящен и спектакль Национального музыкально-драматического театра по повести писателя Ивана Григорьевича Торопова, который поставила главный режиссер театра Светлана Горчакова.
***
События 1946 года. Только что закончилась самая страшная кровопролитная война. Все думали, что теперь, когда не слышны залпы орудий и нет гибельных атак на фронте, заживем мирно и счастливо. Но в жизни всё не так-то просто. Все, что разрушила проклятая война, надо восстанавливать. Для этого нужны пиломатериалы, много пиломатериалов. Для счастливого завтрашнего дня юноши и девушки 16-17 лет, не успевшие окрепнуть телом, но сильные духом, взращенные во время военного лихолетья – идут на сплавные тяжелые работы. Это потом, с годами, они поймут, откуда у них поясничная боль и ломота в костях, сегодня на первом месте для них – это работа на сплаве. Огромное количество древесины, заготовленной зимой на лесных делянках, очень необходимой на строительных площадках, надо по северным рекам доставить туда, где она очень востребована.
Жизнь прожить, как говорится, не поле перейти. Несколько парней и девушек, собранных в бригаду, еще не означает, что создан дружный коллектив, которому всё под силу. Коллективу нужен лидер. И тут возникает вечный вопрос: кто должен быть идущим впереди? Есть две кандидатуры – Федя Мелехин, побывавший за пределами отчего края, когда гнал трофейных лошадей из глубинки России, он во всем принципиальный, и здоровенный парень Пикон. Все мы склонны думать, когда вожак-здоровяк – это благо, бывает, что это и оправдано. Но не всегда, это понимает и вновь созданный коллектив, поэтому многие склонны проголосовать за Федю Мелехина (артист Валериан Канев).
Дальнейшие события показывают, что они не ошиблись в своем выборе.
Появляется начальник сплава Вурдов (артист Александр Ветошкин). Начальник, на то и он начальник, одет, как в те годы было принято, в полувоенную форму, знает свое место в жизни и ставит задачу перед бригадой: прогнать до города хвостовую караванку. Паводок был огромный, много леса утащило со штабелей, которые раскиданы на лугах. Техники как таковой нет, вся надежда на силу молодых рук, еще больше – на героизм. Распорядок – девять часов работаем, девять отдыхаем. Северные ночи светлые, можно работать и ночью, чтобы впустую время не тратить.
Все правильно в речах начальника, весенний день, как известно, год кормит.
Резонный вопрос, который задает бригадир начальнику: «А не собьемся ли мы с панталыку, если перемешаем день с ночью?»
Ответ прост: «Дело проверенное! Работай до устатку, потом пей, ешь и спи. Хорошо поспал – какая разница, день или ночь – опять работай! Девять часов протрубил – и шабаш! Нет права время транжирить.»
И началась работа. Работа тяжелая, изнурительная. Если читать книгу, там все просто, слово за словом, и создается образ. В театре все иначе, зритель должен не только увидеть вживую работу молодых людей на сплаве, но и почувствовать всё это, где-то быть и участником событий, происходящих на сцене.
Современные средства компьютерной графики позволяют это сделать. На сцене развилистая река, заполненная затором из бревен. Кажется, бревна туго привязаны друг к другу, их не растолкать, для этого нужна неимоверная сила. И она есть. Это зритель не только видит, но и ощущает. Она, эта сила, чувствуется в теле каждого, кто с багром в руках.
Парни и девушки с баграми ворочают бревнами под музыку: «Раз-два – взяли. Еще… взяли!» Делается это в пластическом действии.
Моя соседка в зале, женщина пожилого возраста с глубокими морщинами на лице, как мне показалось, слегка привстала, кулаки ее рук в это время были сильно сжаты. Не знаю, участвовала она в сплавных работах или нет, но было понятно, что она знает, что означает на реке затор из бревен и как надо его разбирать.
Я начинал трудовую деятельность учителем в лесном поселке, директор школы в годы войны учился в педучилище, он часто вспоминал работу студентов на сплаве. Бывало, падали ребята в ледяную воду, лекарством от всех простуд были сто граммов спирта.
Мне приходилось слышать рассказы о сплавной эпопее и от других людей, все говорили одно: «Трудно было, кормили сытно, но был еще ко всему большой энтузиазм».
Зритель этот энтузиазм в спектакле увидел воочию.
Со сцены слова: «Давай, давай, не останавливай… давай! Федя, смотри – плывем!..»
Федя: «Давай давай! Не отпускай, багров не отпускай!..»
Все толкают эту проклятую пробку из стены бревен, скрежет и скрип, бревна с силой лезут друг на друга, стонет от бессилия рабочая река, трамбует затор с новой силой, и… радостный вздох: «Пошел караван!»
Устали парни, выбрались на берег, разом упали на землю. Кажется, никакая сила их больше с места не сдвинет. Но река коварна, если в одном месте растолкали затор, то на другом месте вновь может оказаться такой же затор, если вовремя не поработать багром.
Приходит мастер, и не пустой, у него с собой горячая каша, чтобы хорошо перекусить и сил набраться.
Но река шепчет: «Чтобы не было большой беды, надо вновь взяться за багры».
Желанная каша стынет, и снова работа, и снова до седьмого пота. Это их клич, юношей и девушек послевоенной поры, передавших нам эстафету: «Раньше думай о Родине, а потом о себе!»
Хотя работа на сплаве тяжелая, изматывающая, но молодость берет свое, хочет поговорить, а еще больше – встретить свою судьбу. Чувства симпатии возникают между юношами и девушками. Зине нравится Пикон. Но…
Тамара, одна из работниц в бригаде Мелехина, рассказывает Феде, что на суше застрял плот, а там бревна не простые, а отборные. Надо бы этот палубник, пока вода рядом, вытащить, иначе он пропадет.
С идеей вытащить плот, пока есть такая возможность, Мелехин идет к начальнику.
Вурдов, выслушав его, вначале, вроде бы, заинтересовался плотом, но выяснив, что для этого понадобится два дня, сказал свое: «Нет».
Но и Федя не из простых, понимает цену хорошему лесу, поэтому твердо решил: осевший на суше плот выкатить до воды. Хотя затею Феди с плотом ребята встретили по-разному, но все же решили попробовать сохранить ценную древесину, несмотря на запрет начальства.
…Утро. Плот на высохшем берегу заливчика. Молодые люди с решимостью в лицах пробираются к лугам. Вот он, обсохший плот. Слышится стук обуха топора по литым бревнам, парни обрубают обвязки из вицы, сплавной крепеж.
Пластическое решение. Звучит музыка, мелькают багры, бревна растаскиваются. Кипит работа. Ребята довольны работой. Еще немного, еще чуть-чуть…
Вроде, война ушла в историю, но она рядом. Сколько сыновей и мужей отправила коми земля на фронт в те трудные годы войны? Считать их – не пересчитать. Не все вернулись. Вернулся Андрей, сын местного речника Капита, израненный, в разных госпиталях почти два года провалялся, но живой – это главное. Он до войны в школе работал, и сегодня он за учительским столом, на лето пришел помочь сплавщикам. Другой сын Капит дяди, Владимир, был майором, имел множество боевых наград, погиб. Все понимают, нельзя жить только прошлым, надо работать ради будущего.
Парни и девушки, мобилизованные на сплавные работы, трудятся не жалея себя.
Дерево без сучков не бывает, но там, такова природа, вырастают и шипы. Всем хорош начальник сплава Вурдов, он всегда горой за развитие производства, душой болеет за расцвет страны, но в душе он подлый, он – заноза на теле общества, которую трудно вытащить. Однажды взлетев на шесток, где виден горизонт, он с него не слезал, имея при себе наган. Все они, Вурдовы, давно исчезли, но худую память оставили.
Федя с товарищами подвиг совершил, вытащив с отмели большой плот с корабельным лесом, но пошел поперек воли начальства, выполнил эту работу без согласия начальства. Вурдов такие вещи не намерен прощать. Теперь для него молодой бригадир Федор Мелехин – враг. Нужен случай, чтобы подвести его под этот хомут. И он этот повод ищет.
После спектакля в раздевалке одна женщина произнесла: «Моего старшего брата, совсем еще юного, такой деятель, как Вурдов, ни за что посадил в тюрьму, испортил ему всю дальнейшую жизнь. Всем хорош артист, но зачем он за эту роль взялся, теперь он мне неприятен».
Значит, действительно на сцене Александр Ветошкин был натурален, если сумел зрителю внушить, что зло может улыбаться, но в то же время делать гадости.
Сегодня, когда всеобщее среднее образование, вдруг стали ощущать, что читающая страна отвернулась от книг. Правда, многие себя успокаивают, дескать, есть интернет, там всё есть. Да, если что-то надо нужное найти, необходимую выдержку из произведений классиков, но не читая само произведение, можешь оказаться и ущербным. Феде до войны с 12 лет приходилось выполнять в хозяйстве мужскую работу, не до чтения было. Подрос, хотя тоже свободного времени мало, всё в работе и в работе, к печатному слову относится с большим уважением. Младший брат учителя Андрея, в целом трудолюбивый парень Пикон, равнодушен к чтению. Он считает, что охотнику в тайге книжки не нужны, в войну его кормило ружье.
К сожалению, в последние годы в нашем обществе молодых людей, равнодушных к чтению, становится все больше. Это, можно сказать, беда нашего времени.
Люди во все времена были разные. Они были и есть вчера и сегодня, которые не в ладу с законами. Микола не назовешь тунеядцем или еще каким-то плохим словом. За его спиной больная мама и две младшие сестры, да и дом покосился, надо строить новый. Где взять деньги? Оказывается, можно их найти, для этого надо усыпить совесть. Он торгует спиртом, кому надо, те покупают товар втридорога. За годы войны и работы на сплаве к спиртному приучился и Пикон, его все за это осуждают, но он этого не замечает.
Действительно, кто из любителей выпить спиртного скажет, что он алкоголик? Таковых нет, хотя все отлично понимают, что в стакане с вином прожигается жизнь.
Наш северный край долгие годы был местом, где было много осужденных за всякие злодеяния. Несмотря на это, в деревнях не было замков, веник или лопата, прислоненная к дверям, были знаком, что в доме в это время нет хозяина. Один из них Иванов, он хотя и прикидывается голубем, но нутро у него волчье. Не все это сразу видят. Вот и Тамара, несколько раз встретившись с ним, видит в нем человека, пытается его защитить, когда тот затевает драку.
Река-труженица бывает и коварной, если за ней не следить. Небольшая курья, вчера еще мирно-спящая, вдруг разлилась, перегородив дорогу. Бригада Мелехина оказалась в водяной западне. Чтобы выйти из водяного плена, кто-то должен переплыть разлившую курью ночью. Желающих сделать это, кроме Феди, нет. И он уходит в ночь, вплавь, подбадривая себя: «Не трусь, Федя, не трусь… Надо фуфайку сбросить, сапоги мешают, пуговицы расстегнуть… Где же дно?.. Где же берег? Судорога… Надо доплыть. Осока… Берег… Э-э-эй!..»
Не могу сказать обо всех зрителях, лично я в этот момент не сидел, а поднялся. Мне хотелось чем-то помочь Феде. Не спускала глаз, зорко следила за происходящим на сцене и моя соседка. Она, как и я, переживала за Федю.
Федя – герой, совершил невозможное, его встречают, туда спешит и Вурдов.
Федя ему: «Ну, ты гад, Вурдов… Сколько я говорил: хватит ночами работать, ведь на воде не на суше!..»
Вурдов: «Засужу!»
«План – превыше всего!» Мы привыкли к этому лозунгу. Уплотнив рабочий день, Вурдов, как начальник, достиг каких-то целей, караван из бревен спустился вниз по течению реки быстрее намеченного графика, это достойно уважения. Но какой ценой! Это Вурдова не волнует, это понимают некоторые члены бригады, это, кстати, понимают и присутствующие в зрительном зале. Если провели бы экспресс-опрос, некоторые, уверен, поддержали бы Вурдова. Всё потому, что мы привыкли к такой жизни. И спор у членов бригады возникает нешуточный.
ӦЛЬӦШ. Я хоть и не боюсь ночной работы на воде… Но всё равно Федя верно толкует.
МАСТЕР. Да вы не забывайте о государственном интересе! Что вы только о себе беспокоитесь?..
ПИКОН. Теперь уж не война. Сколько можно!..
МИКОЛ. В шею надо гнать этих нытиков из караванки!
ТАМАРА. А я не хочу, чтобы моё здоровье в семнадцать лет в Белое море утекло!
МАСТЕР. Да ты и о лесе подумай, о лесе!.. Ведь он под лёд уйдет.
МИКОЛ. Поддать нытикам в одно место, и пусть катятся!
ВУРДОВ. Кто хочет базарить, кто идет против руководства и этим задерживает продвижение караванки, – пусть выйдет на глаза честного народа.
ФЕДЯ. Кто хочет хорошо работать, но и жить по-людски, интереснее и лучше!..
ВУРДОВ. С этого же момента, сей минут, всех – снять с довольствия! Сейчас же убирайтесь из караванки! Пойду в трест, попрошу новых людей. А на тебя, Мелехин, в прокуратуру заявлю! Там законы знают, пусть разбираются…
ФЕДЯ. Никуда мы не уйдем с караванки. Караванка не твоя, не частная лавочка… Вот сейчас мы возьмем багры и двинем на работу… дотемна. А ночью – шабаш, спать.
ЗИНА. И только попробуй не накорми нас!
ПИКОН. Всю кухню перевернем…
ОЛЬОШ. До темени поработаем, и ночка-то наша будет, ведь так, Федя? Ночка то, братцы, на другое дело предназначена… А, девки?
ВУРДОВ. Не быть по-вашему! Я тебе покажу, Мелехин, где раки зимуют!..
ФЕДЯ. Дело ваше. Как решите!
И начала работать бригада, да так, что бревна визжат и стонут, глядишь, и дым появится от такого накала, ваги ломаются от невероятной силы. Им надо доказать, что дневной труд эффективней, чем полусонный ночами.
Но и Вурдов не собирается сдаваться взбунтовавшейся бригаде, он не намерен плясать под их дудку. Он едет в город к большому начальству, чтобы наказать строптивых. Едет потому, что уверен в своей правоте, так всегда было, так должно быть и сегодня.
Но времена меняются. То, что вчера было знаменем, сегодня может оказаться обыкновенной тряпкой. Время Вурдовых, когда наган для устрашения был за поясом, прошло. Вместо него на рабочей площадке появляется Александр Рубакин – новый начальник сплавного рейда, вчерашний фронтовик.
Жизнь бригады меняется. Уже раздобыли матрасы и одеяла, пусть они и не новые, но все-таки это постель, а не еловые лапы на голых досках. Да и печка-буржуйка очень кстати, скоро осень и начнутся дожди. Если производственные дела на сплаве в бригаде Мелехина как-то решились, поставленная задача, можно сказать, выполнялась, то проблем человеческих накопилось много, что их трудно и разгребать.
Новый начальник Александр Рубакин не случайно оказался на новом месте. У него семейных проблем накопилось столько, что легче большую гору голыми руками свернуть, нежели решать проблему между новой любовью и женой с детьми.
У сплавщиков тоже проблемы. Роза заболела, тошнит ее. Рассказывает она об этом сердечному другу Ӧльӧшу, а он: «Иди в больницу, там врачи хорошие, вылечат».
Роза ему объясняет, что заболела по-бабьи, как это бывает после жизни с мужиком.
Ӧльӧш этого не хочет понять, считая себя ребенком. Роза уезжает, напоследок дав хорошую пощечину предателю любви.
Каково ее будущее? В зале в это время кое-кто из зрителей достает носовой платок. Наверное, не в бровь, а в глаз ударила эта сценка.
Вспоминаю свою деревенскую школу-восьмилетку. У нас в каждом классе было по два-три человека, которых называли крапивницами, они в послевоенные годы родились без отцов.
Караван дошел, но работы на реке еще много. Постепенно друзья прощаются, кто-то едет на учебу, у каждого своя дорога.
Плохо стало Рубакину, но он не переживает, зная, что будущее в надежных руках. Поэтому и пьеса называется: «Вам жить дальше!»
После спектакля я встретился с главным режиссером театра Светланой Гениевной Горчаковой.
На мой вопрос, почему вы выбрали эту пьесу, она сказала:
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне было над чем задуматься. Пьес хороших, написанных на эту тему, много, но выбрали тематику, которая ближе нашему зрителю. Писатель Иван Григорьевич Торопов со своей книгой о жизни Федора Мелехина нашему зрителю ближе и понятней. Мы уже к его произведениям обращались, зрителю «Ну-у, залетные» понравились».
Проходят годы, среди нас остается всё меньше тех, кто не жалел своих сил на восстановление экономики народного хозяйства в трудные послевоенные годы. Тем самым нам всё дороже воспоминания о тех суровых днях.
Чтобы обратиться к теме труда подростков в первый послевоенный год, долго размышляла и решилась. Надо было, опираясь на новые технологии, сделать так, чтобы река и бревна двигались. Экран позволил все это передать.
Цель спектакля, конечно, не бревна, не река, а шире – человеческий дух. То, что стоит за судьбами подростков.
Лично для меня этот спектакль в какой-то степени – реквием отцу. Мой отец, Гений Дмитриевич, он 1927 года рождения, в 13 лет пошел работать на сплав. Тяжелая работа сказалась на его здоровье, он заболел тубуркулезом легких, жаловался на боли в коленях, беспокоили его и ребра.
Художник-постановщик Юрий Самодуров сумел найти решение, чтобы завалы на реке оказались по-настоящему в тревожной динамике.
Балетмейстер Ксения Дербина в пластическом танце имитирует не только работу юношей и девушек на износ физических и моральных сил, но и романтические отношения между молодыми людьми.
В главных ролях: Федя – Валериан Канев, Пикон – Никита Дербин, Микол – Антон Куратов, Зина – Ирина Засухина, Тамара – Кристина Поскребаева, Шура Рубакин – Данил Чудов, Сюзь Васькой – Александр Канев, Феофан Вурдов – заслуженный артист России Александр Ветошкин, Капит дядь – народный артист Республики Коми Андрей Епанешников и другие.
Инсценировка повести и постановка – заслуженный деятель искусств РФ Светлана Горчакова. Художник-постановщик – заслуженный работник Республики Коми Юрий Самодуров. Балетмейстер – Ксения Дербина.
Мнение зрителей:
«Меня очень покорил язык танцев»
«Хорошая находка – это в исполнении юных артисток волны, они завораживают».
«Подобрана хорошая музыка».
«Сидел и боялся шевельнуться, все внимание было приковано к сцене».
«Пришли всей семьей и наше семейное спасибо режиссеру-постановщику, художнику, балетмейстеру и всему коллективу. Все очень здорово».
Занавес закрыт, но еще долго спектакль будет жить в сердцах зрителей.
Александр СУГОРОВ, член Союза журналистов РФ.